|
С.Серебряков
ОБ ОРИЕНТИРОВАНИИ И НЕ ТОЛЬКО
Воспоминания
ВСТУПЛЕНИЕ
Сейчас, в эпоху компьютеров и интернета, у большинства людей есть
электронный адрес, как правило, придуманный самостоятельно. Обычно
используют свои фамилии или имена, но бывают и более оригинальные. Моя
фамилия неудобна для латинской транскрипции, и я выбрал себе электронное
имя «oriss». К индийскому штату Орисса оно не имеет отношения, а
означает «Ориентировщик Сергей Серебряков». Вот уже более 30 лет я
отношусь к «О-сообществу», как называют себя любители спортивного
ориентирования. Этот замечательный вид спорта, увы, пока не жалуют СМИ,
так как он незрелищный. На футбольном матче играют 22 человека, а
зрителей десятки тысяч, а с учетом телезрителей – сотни миллионов. В
ориентировании же болельщиков и зрителей, как правило, нет вообще, ведь
они могут увидеть только старт и финиш, а вся борьба скрыта в лесу, и
понять и прочувствовать ее можно только самому став участником
соревнований.
Многие, однажды попробовавшие силы в спортивном ориентировании,
«заболевают» им на всю жизнь. Так было и со мной, но мой путь в спорт
был не совсем обычным. Я хочу рассказать о нем подробнее.
Одной из причин, побудивших меня начать писать эти мемуары, стала книга
Андрея Чиркова «Бег в помощь», изданная в 2006 г. Автор (кстати,
племянник знаменитого киноактера Бориса Чиркова), рассказывает, как он в
52 года впервые пробежал марафон и впоследствии покорил более сотни
марафонов по всему земному шару, в том числе на Северном полюсе и в
Антарктиде. Конечно, 52 года – весьма солидный возраст для начала
спортивной карьеры, но автор вскользь упоминает, что в молодости
некоторое время занимался легкой атлетикой и показывал неплохие
результаты. У меня же все было по-другому. Впрочем, читайте сами.
Часть 1. ПРЕДЫСТОРИЯ (до 1982 г.)
Пожалуй, трудно найти здорового человека, более далекого от спорта, чем
я в детстве и юности.
Я рос в интеллигентной московской профессорской семье. Мой отец,
известный ученый-ботаник , человек нелегкой и необычной судьбы, выходец
из сельской глубинки, в молодости был прекрасным спортсменом и собирался
приобщить к спорту и меня, но тяжелая болезнь сердца лишила его этой
возможности, когда мне было всего 6 лет.
Родители целиком отдавали себя науке, и моим воспитанием занимались в
основном бабушка с дедушкой. Мой дед, замечательный бывалый человек,
привил мне на всю жизнь любовь к технике. Первый «конструктор» появился
у меня в 5 лет, в 7 лет я уже мастерил из него модель шагающего
экскаватора, в 9 лет стал завзятым радиолюбителем, что определило мою
будущую профессию, а в 11 еще и фотолюбителем.
Я много сидел дома, много читал, в основном научно-популярную литературу
и фантастику, не любил гулять, не играл с друзьями в подвижные игры.
Летом мы снимали дачу, и я там главным образом собирал грибы и
коллекционировал насекомых. Я ни разу не был в пионерлагере. Хотя на
здоровье особо не жаловался, в школе был одним из самых слабых
физически. Уроки физкультуры были для меня сущим наказанием. Если в
младших классах нас худо-бедно учили общефизической подготовке, то в
старших уроки, как правило, сводились к игре в волейбол и баскетбол, а
так как от моей руки мяч летел совсем не туда, куда надо, меня быстро
выгоняли, и большую часть урока я сидел на скамейке. Изредка были и
другие виды, например, бег, но бегать я не любил и не умел. Я вообще не
мог представить, как человек может пробежать больше километра – сам
после нескольких сот метров уже задыхался. Кроме того, я абсолютно не
умел плавать (хотя по знаку зодиака отношусь к Рыбам). Когда мне было 5
лет, отец попытался научить меня старым варварским способом – бросить в
воду, но результат оказался противоположным – я стал бояться воды. Но
еще больше я боялся признаться в своем неумении – мне это казалось
неслыханным позором. куда надо, меня быстро
выгоняли, и большую часть урока я сидел на скамейке. Изредка были и
другие виды, например, бег, но бегать я не любил и не умел. Я вообще не
мог представить, как человек может пробежать больше километра – сам
после нескольких сот метров уже задыхался. Кроме того, я абсолютно не
умел плавать (хотя по знаку зодиака отношусь к Рыбам). Когда мне было 5
лет, отец попытался научить меня старым варварским способом – бросить в
воду, но результат оказался противоположным – я стал бояться воды. Но
еще больше я боялся признаться в своем неумении – мне это казалось
неслыханным позором.
И все же одна физкультурная «отдушина» у меня была – я любил кататься на
лыжах, еще с детства, и это единственный вид спорта, где я был на
уровне, скажем так, близком к среднему. Я ходил на лыжах сначала по
двору, потом в Чапаевском парке (мы жили у метро «Аэропорт»), потом в
Тимирязевском, потом стал ездить с приятелем в Опалиху кататься с
Черневских гор .
В аттестате по физкультуре мне кое-как натянули четверку, а когда я в
1967 году поступил в Московский институт электронного машиностроения,
там была кафедра физвоспитания, где студенты могли выбрать одну из
специализаций – гимнастика, легкая атлетика, лыжи, баскетбол и борьба
самбо. Я, естественно, выбрал лыжи, прошло несколько занятий, но вдруг
однажды число студентов-лыжников резко увеличилось. Дело в том, что
большинство студентов (а факультет был в основном мужской) пожелали
заниматься самбо, там возник перебор, неперспективных отчислили из
секции, и они пришли к нам в лыжи. Но теперь перебор возник у нас, и
преподаватель решил отсеять неперспективных лыжников способом, который
был впоследствии отражен в американском фильме «Загнанных лошадей
пристреливают, не так ли?» - устроить забег на 2 км (бегом, не на лыжах,
ведь дело было в сентябре), и пришедших последними отчислить. Я же, как
известно, был исключительно лыжником, но отнюдь не бегуном, и оказался
среди аутсайдеров. Из секции меня попросили, и мне ничего не оставалось
делать, как идти в гимнастику – единственную секцию, где не было
перебора. Гимнаст из меня никудышный, зачет по физкультуре я получил
почти исключительно за посещаемость. Но еще была сдача норм ГТО.
Каким-то чудом проскочило мое неумение плавать. Повторяю, я боялся
признаться в неумении , пришел в бассейн и прыгнул в воду – вдруг
получится, но… меня спасли. А вот по лыжам в гонке на 10 км я показал
результат 47:56 – это третий разряд! Правда, старт проводился в Лужниках
по ровному месту и, возможно, полных 10 км не было.
 В институте была военная кафедра, и после 4 курса мы проходили военные
сборы на Украине в городе Гайсин Винницкой области. В программу «физо»
входил кросс на 3 км. Бежать надо было в сапогах, правда, допускалось
без головного убора и ремня. Я, помнится, кое-как пробежал половину, а
вторую в основном шел пешком. Вот такой я был «бегун». В институте была военная кафедра, и после 4 курса мы проходили военные
сборы на Украине в городе Гайсин Винницкой области. В программу «физо»
входил кросс на 3 км. Бежать надо было в сапогах, правда, допускалось
без головного убора и ремня. Я, помнится, кое-как пробежал половину, а
вторую в основном шел пешком. Вот такой я был «бегун».
В институте же, где-то на втором или третьем курсе (1969-70 г.) я
впервые узнал о существовании спортивного ориентирования. Секции
ориентирования в институте не было, но в нашей группе была одна
студентка по имени Татьяна Ревтова. Она всерьез увлекалась радиоспортом
(ее отец был руководителем секции наблюдателей Московского радиоклуба) и
организовала в институте коллективную радиостанцию с позывным UK3ABM.
Понемногу этим делом заинтересовался и я.
 Радиоспорт – понятие широкое. Это прежде всего связь на коротких волнах
между радиолюбителями всего мира (целью является сам факт установления
связи, а не передача какой-либо информации). Это также скоростной прием
и передача радиограмм на ключе по азбуке Морзе. Это «охота на лис» или
спортивная радиопеленгация (ее до сих пор путают с ориентированием, хотя
«лисоловов» в сотни раз меньше, чем ориентировщиков). Это, наконец,
радиомногоборье, включающее в себя три вида – скоростной прием-передачу
радиограмм, работу в радиосети (обмен радиограммами по определенным
правилам) и… спортивное ориентирование. Да-да, именно ориентирование в
классическом виде, а не «охоту на лис». Так вот, Татьяна Ревтова
занималась именно многоборьем, а значит, и ориентированием. Радиоспорт – понятие широкое. Это прежде всего связь на коротких волнах
между радиолюбителями всего мира (целью является сам факт установления
связи, а не передача какой-либо информации). Это также скоростной прием
и передача радиограмм на ключе по азбуке Морзе. Это «охота на лис» или
спортивная радиопеленгация (ее до сих пор путают с ориентированием, хотя
«лисоловов» в сотни раз меньше, чем ориентировщиков). Это, наконец,
радиомногоборье, включающее в себя три вида – скоростной прием-передачу
радиограмм, работу в радиосети (обмен радиограммами по определенным
правилам) и… спортивное ориентирование. Да-да, именно ориентирование в
классическом виде, а не «охоту на лис». Так вот, Татьяна Ревтова
занималась именно многоборьем, а значит, и ориентированием.
Спортивное ориентирование меня заинтересовало, но чисто теоретически –
ведь там надо бегать, и дистанции длинные. А вот карты… к ним у меня с
детства была особая страсть. У нас хранится семейная реликвия – карта
Московской области 1939 года масштаба 3 км в 1 см. Она была весьма
точной, в отличие от продававшихся тогда административных и туристских
карт, вопиюще искаженных по милости КГБ. Но масштаб все же маловат, да и
возраст более чем почтенный. В институте на военной кафедре был курс
военной топографии, нам несколько раз выдавали под расписку настоящие
«генштабовские» секретные карты масштаба 1:25000, я был от них в полном
восторге, но, как говорится, видит око, да зуб неймет. Правда, это было
всего пару раз, а так мы изучали топографию по точнейшим картам ФРГ или
фантастическим условным картам с городом Снов на большой реке Соть с
притоком Андогой (в действительности города Снов не существует, Соть –
небольшая речка в Костромской области, а Андога – в Вологодской).
И вот в том же 1970 году я решил сам нарисовать карту такого же масштаба
на район, где я чаще всего ходил на лыжах, за грибами или просто гулять.
Это район к югу от Рижской
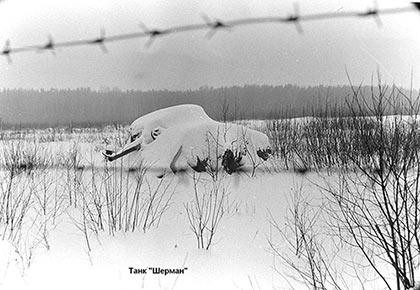 железной дороги между станциями Красногорская
и Нахабино, вплоть до реки Истра и существовавшей тогда ветки Нахабино -
Павловская Слобода. Он включал, в частности, деревню Веледниково, где мы
с 1956 по 1964 г. снимали дачу. О спортивном ориентировании речи не
было, карту я хотел использовать для измерения пройденных расстояний и
нанесения разных интересных объектов. А таковые были - в частности,
заброшенный военный полигон под Нахабином, где я обнаружил несколько
увязших в болоте танков времен Великой Отечественной войны, в том числе
немецкий «Тигр» и американский «Шерман». Сейчас, кстати, эти танки
вывезены оттуда в мемориальный железной дороги между станциями Красногорская
и Нахабино, вплоть до реки Истра и существовавшей тогда ветки Нахабино -
Павловская Слобода. Он включал, в частности, деревню Веледниково, где мы
с 1956 по 1964 г. снимали дачу. О спортивном ориентировании речи не
было, карту я хотел использовать для измерения пройденных расстояний и
нанесения разных интересных объектов. А таковые были - в частности,
заброшенный военный полигон под Нахабином, где я обнаружил несколько
увязших в болоте танков времен Великой Отечественной войны, в том числе
немецкий «Тигр» и американский «Шерман». Сейчас, кстати, эти танки
вывезены оттуда в мемориальный комплекс на 41 километре Волоколамского
шоссе близ Снегирей. И еще один интереснейший объект – памятник на месте
запуска первых советских ракет в 1933 г. группой ГИРД под руководством
Королева, Цандера и Тихонравова к югу от Нахабина. комплекс на 41 километре Волоколамского
шоссе близ Снегирей. И еще один интереснейший объект – памятник на месте
запуска первых советских ракет в 1933 г. группой ГИРД под руководством
Королева, Цандера и Тихонравова к югу от Нахабина.
Карту я рисовал, пользуясь компасом, шагомером и иногда велосипедом со
счетчиком расстояний. Карта эта хранится у меня и поныне, и когда в 1988
г. в этом районе были соревнования «Спортивное долголетие», я сравнил ее
со спортивной картой – все довольно точно.
Итак, в студенческие годы я довольно много ходил на лыжах и пешком по
лесу, ездил на велосипеде (в том числе с мотором), но этим дело
ограничивалось, так что я был отнюдь не спортсмен, а скорее
турист-одиночка.
В 1972 году я окончил МИЭМ и был направлен по распределению на работу в
один из московских «ящиков» под названием НИЭТИ и завод «Пластик» - ныне
это АО НПП «Дельта». Так получилось, что я работаю там и поныне уже 45-й
год, хотя дважды менял направление инженерной деятельности – 20 лет
занимался техникой СВЧ, затем 4 года медицинской аппаратурой, а теперь
являюсь главным специалистом-разработчиком газосигнализаторов серии
ИГС-98. (См. сайт www.deltainfo.ru).
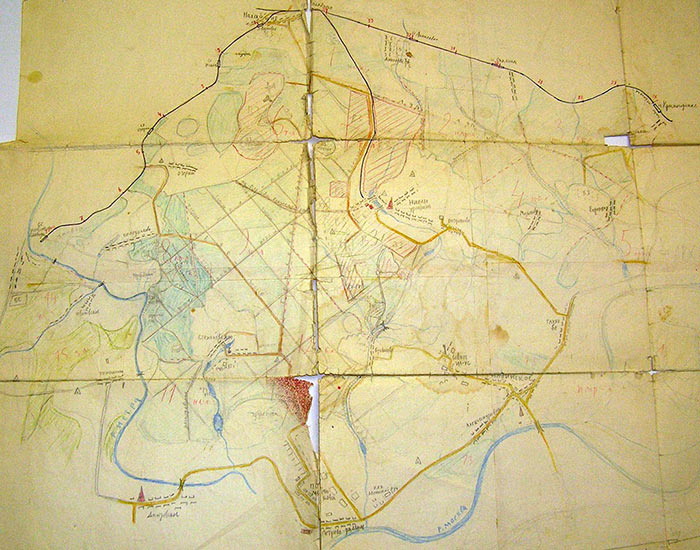
Когда я устраивался на работу в отдел, мне достался на время рабочий
стол одного молодого сотрудника, ушедшего на год в армию после окончания
вечернего института. Звали его Володя Гуз. По рассказам сослуживцев, он
был спортсменом – легкоатлетом, лыжником, сильнейшим шахматистом и…
ориентировщиком. В ящиках его стола я обнаружил несколько странных на
вид карт – черно-белых, на фотобумаге, без каких-либо географических
названий, зато в ряде случаев с некими кружочками и названиями разных
соревнований. Так я впервые познакомился с реальными спортивными
картами, хотя заниматься ориентированием не собирался. Через год Володя
вернулся из армии к нам в отдел, мы подружились, но ориентирование он
бросил, переключившись на туризм, в основном байдарочный.
Кстати, в армию хотели забрать и меня, офицером на 2 года. В марте 1973
г. я прошел призывную комиссию, мне было сказано ждать разнарядки где-то
в июле-августе, но… что-то там в военном ведомстве не сложилось, призыв
отменили. Однако это послужило для меня стимулом начать учиться плавать
– я стал ходить в бассейн «Москва» на месте нынешнего Храма Христа
Спасителя, но плавать кое-как научился только года через два – для
взрослого человека, к тому же с детства боящегося воды, это неизмеримо
труднее, чем для ребенка. Однако это послужило для меня стимулом начать учиться плавать
– я стал ходить в бассейн «Москва» на месте нынешнего Храма Христа
Спасителя, но плавать кое-как научился только года через два – для
взрослого человека, к тому же с детства боящегося воды, это неизмеримо
труднее, чем для ребенка.
А Володя Гуз вовлек меня впоследствии в туризм, в том числе и на
байдарках. Кроме него, у нас в отделе был еще один байдарочник-любитель,
тоже Володя, он в 1978 году уговорил меня пройти весной в половодье по
Истре на двухместном «Салюте». Мне так понравилось, что я на следующий
день купил себе одноместную байдарку «Таймень-1» (их выпустили очень
маленькой партией, вскоре выпуск прекратили, перейдя на 2- и 3-местные),
а через неделю, возомнив себя бывалым байдарочником, отправился один в
Красную Пахру, намереваясь совершить путешествие до Подольска. Лихо
собрал байдарку, лихо сел и поплыл, и… через несколько минут
перевернулся. Невероятное стечение обстоятельств – в месте моей аварии
оказался турист в гидрокостюме, искавший свою байдарку, затонувшую
неделю назад. Он спас меня. Это был серьезный урок – Пахра в половодье
местами опасна из-за подтопленных деревьев, а я к тому же совершил
непростительную ошибку – поставил на байдарку руль, который в сложных
условиях делает ее неуправляемой, тут нужно действовать только веслом.
Впоследствии я ходил несколько раз один на своем «Таймене», но только
летом и только по спокойным рекам, где действительно нужен руль. А с
лета 1978 года стал ходить в компании байдарочников с первым Володей. Мы
прошли несколько подмосковных рек в последующие майские
праздники, а ту злосчастную Пахру я прошел через год в компании со
вторым Володей и его приятелем Витей, и на этот раз я сам оказался в
роли спасателя – на середине пути их байдарку затянуло под железный
мостик, они оказались на мостике, а я на своем «Таймене» спас их
перевернутый «Салют».
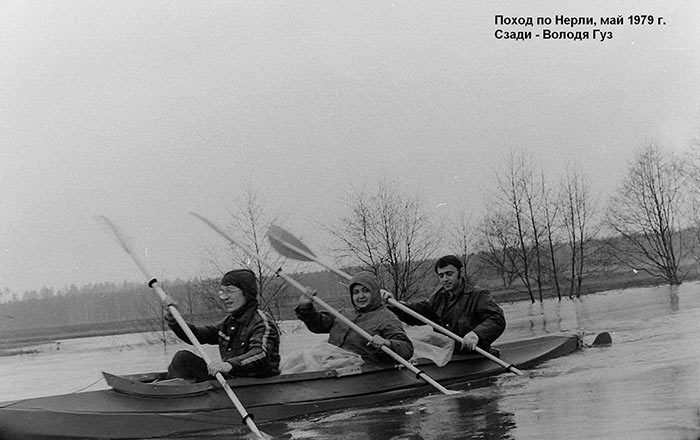
Байдарочное увлечение оказалось относительно недолгим – через 5 лет я
совершил свое последнее путешествие - по Воре, а в конце концов подарил
свою байдарку этому самому Вите, который увлекся и стал ходить на
сложные реки в Карелию, а сам… впрочем, я забежал вперед. Итак, вернемся
на наше предприятие.
В советские времена оно было большим – свыше 3000 человек. Был в нем,
естественно, профком, и велась спортивно-массовая работа.
 Предприятие
относилось к 4-му отраслевому совету ДСО «Зенит», был свой коллектив
физкультуры под названием «Пластик», проводились соревнования по многим
видам спорта – первенства предприятия, района, отраслевого совета ДСО. Я
регулярно участвовал в первенствах предприятия по лыжам, но они мне не
нравились. Проводились, как правило, в Тимирязевском парке, лыжня
специально не готовилась, только размечалась, многое делалось «для
галочки», и бывали случаи, когда участники срезали дистанцию, что
вызывало у меня возмущение, а у них лишь усмешку. Предприятие
относилось к 4-му отраслевому совету ДСО «Зенит», был свой коллектив
физкультуры под названием «Пластик», проводились соревнования по многим
видам спорта – первенства предприятия, района, отраслевого совета ДСО. Я
регулярно участвовал в первенствах предприятия по лыжам, но они мне не
нравились. Проводились, как правило, в Тимирязевском парке, лыжня
специально не готовилась, только размечалась, многое делалось «для
галочки», и бывали случаи, когда участники срезали дистанцию, что
вызывало у меня возмущение, а у них лишь усмешку.
Но были среди сотрудников и сильные спортсмены, защищавшие честь
предприятия на соревнованиях более высокого ранга. Помню сильнейших
наших лыжников: Михаил Горяинов, Юрий Архипов, Андрей Короленко,
Валентин Бакун, Тамара Бобышева. Они были членами лыжной секции,
руководил которой Лев Александрович Крохин, работавший начальником
лаборатории. Я в эту секцию не стремился – не тот уровень. Но была у
меня мечта – попробовать силы в каких-нибудь хорошо организованных
массовых соревнованиях для всех желающих.
В 1977 году в наш отдел перешел работать уже упомянутый мной сильный
лыжник Юра Архипов. Узнав о моем желании, он пригласил меня на гонку
памяти друзей МАИ близ станции Малино на дистанцию 15 км. Я прошел
дистанцию, но особого удовольствия не получил, так как постоянно слышал
за спиной «Хоп-хоп!» и уступал лыжню – все-таки уровень мой оказался
слабоват, несмотря на то, что я с каждым годом наращивал объемы своих
лыжных походов, осваивал новые маршруты, все более дальние и сложные. Тогда это было просто – все Подмосковье было исчерчено лыжнями, в
выходные зимой чуть ли не вся Москва вставала на лыжи. У меня есть
ностальгический фотоснимок, сделанный в одно из воскресений 1978 года на
Черневских горах близ Красногорска – на нем можно насчитать около 500
лыжников. Сейчас, увы, лыжники появляются там лишь изредка. меня на гонку
памяти друзей МАИ близ станции Малино на дистанцию 15 км. Я прошел
дистанцию, но особого удовольствия не получил, так как постоянно слышал
за спиной «Хоп-хоп!» и уступал лыжню – все-таки уровень мой оказался
слабоват, несмотря на то, что я с каждым годом наращивал объемы своих
лыжных походов, осваивал новые маршруты, все более дальние и сложные. Тогда это было просто – все Подмосковье было исчерчено лыжнями, в
выходные зимой чуть ли не вся Москва вставала на лыжи. У меня есть
ностальгический фотоснимок, сделанный в одно из воскресений 1978 года на
Черневских горах близ Красногорска – на нем можно насчитать около 500
лыжников. Сейчас, увы, лыжники появляются там лишь изредка.

Любимым моим местом походов по-прежнему оставался район Опалиха –
Нахабино – Павловская Слобода. Я знал там каждый уголок (как-никак –
карта!), и в 1974 году организовал в нашем отделе лыжный поход по
маршруту Опалиха – Павловская Слобода с заходом на упоминавшийся уже
полигон с танками. Желающих оказалось 12 человек, среди них – семья
нашей сотрудницы Марии Тимофеевны Садовниковой, включая ее 12-летнего
сына Юру. Он был от путешествия в полном восторге, а через несколько лет
я узнал, что он стал заниматься ориентированием под руководством Зинаиды
Максимовны Смыкодуб – бывшей сотрудницы нашего предприятия, ставшей
профессиональным тренером.
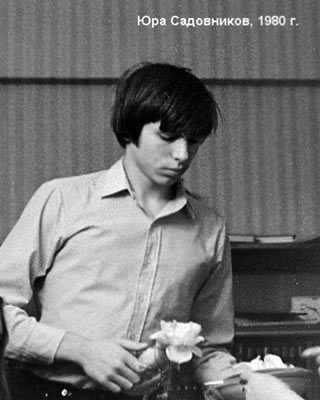 В 1980 году мы были в гостях у Марии Тимофеевны на дне рождения, и я
вновь встретился с Юрой – на этот раз ему было 17 лет, он был уже
сильным ориентировщиком и показал мне ряд карт, от которых я в свою
очередь пришел в полный восторг. На этот раз я впервые увидел цветные
карты, в том числе на места, мне хорошо знакомые, в частности, на
окрестности Красногорска. В том же году я купил в магазине две книги –
«Сборник задач и упражнений по спортивному ориентированию»
Б.И.Огородникова и «Спортивное ориентирование на лыжах» С.Б.Елаховского.
Я их много раз перечитывал, знал чуть ли не наизусть, и теоретически был
уже знатоком. И к моей мечте о массовой лыжной гонке добавилась еще одна
– попробовать силы в зимнем ориентировании, только в зимнем, так как
бегать я по-прежнему не умел. Однако почти никакой информации о
каких-либо общедоступных соревнованиях я не имел. Слышал что-то о
Манжосовской лыжной гонке, но как на нее попасть? И Юра Садовников
ничего не мог мне сказать о соревнованиях по зимнему ориентированию для
всех желающих. Так что мечты оставались мечтами. А тем временем я довел
максимальное расстояние, пройденное мной на лыжах, до 50 км, пройдя по
маршруту Радищево – Снегири – Павловская Слобода – Нахабино. Тогда это
было вполне возможно, а при хорошей погоде и хорошей лыжне не составляло
особого труда. В 1980 году мы были в гостях у Марии Тимофеевны на дне рождения, и я
вновь встретился с Юрой – на этот раз ему было 17 лет, он был уже
сильным ориентировщиком и показал мне ряд карт, от которых я в свою
очередь пришел в полный восторг. На этот раз я впервые увидел цветные
карты, в том числе на места, мне хорошо знакомые, в частности, на
окрестности Красногорска. В том же году я купил в магазине две книги –
«Сборник задач и упражнений по спортивному ориентированию»
Б.И.Огородникова и «Спортивное ориентирование на лыжах» С.Б.Елаховского.
Я их много раз перечитывал, знал чуть ли не наизусть, и теоретически был
уже знатоком. И к моей мечте о массовой лыжной гонке добавилась еще одна
– попробовать силы в зимнем ориентировании, только в зимнем, так как
бегать я по-прежнему не умел. Однако почти никакой информации о
каких-либо общедоступных соревнованиях я не имел. Слышал что-то о
Манжосовской лыжной гонке, но как на нее попасть? И Юра Садовников
ничего не мог мне сказать о соревнованиях по зимнему ориентированию для
всех желающих. Так что мечты оставались мечтами. А тем временем я довел
максимальное расстояние, пройденное мной на лыжах, до 50 км, пройдя по
маршруту Радищево – Снегири – Павловская Слобода – Нахабино. Тогда это
было вполне возможно, а при хорошей погоде и хорошей лыжне не составляло
особого труда.
 Еще один интересный эпизод. В 16-летнем возрасте у меня появилось новое
увлечение – изучать и фотографировать архитектурные памятники Москвы и
Подмосковья, в основном церкви. В дальнейшем стал искать разные
малоизвестные памятники и случайно узнал про Белопесоцкий монастырь
напротив Каширы. Первый раз поехал туда еще в 1967 году. Заброшенный и
полуразрушенный монастырь произвел сильное впечатление , я даже
впоследствии написал про него стихи. В 1970 году 12 апреля наблюдал
величественную картину – сильнейшее за последние полвека половодье на
Оке, монастырь превратился в остров. В мае 1980 года решил съездить туда
еще раз, заодно погулять в красивых прибрежных сосновых лесах. В
электричке рядом сидела группа детей с тренером, и из их разговоров я
понял, что это ориентировщики. Потом в лесу видел, как они бегают,
впервые увидел КП, и подумал: эх, мне бы так! Но опять-таки – надо
бегать. Еще один интересный эпизод. В 16-летнем возрасте у меня появилось новое
увлечение – изучать и фотографировать архитектурные памятники Москвы и
Подмосковья, в основном церкви. В дальнейшем стал искать разные
малоизвестные памятники и случайно узнал про Белопесоцкий монастырь
напротив Каширы. Первый раз поехал туда еще в 1967 году. Заброшенный и
полуразрушенный монастырь произвел сильное впечатление , я даже
впоследствии написал про него стихи. В 1970 году 12 апреля наблюдал
величественную картину – сильнейшее за последние полвека половодье на
Оке, монастырь превратился в остров. В мае 1980 года решил съездить туда
еще раз, заодно погулять в красивых прибрежных сосновых лесах. В
электричке рядом сидела группа детей с тренером, и из их разговоров я
понял, что это ориентировщики. Потом в лесу видел, как они бегают,
впервые увидел КП, и подумал: эх, мне бы так! Но опять-таки – надо
бегать.
Скажу также, что я еще с 1973 года регулярно ходил в Московский
радиоклуб, встречаясь там с упомянутой выше однокурсницей Татьяной
Ревтовой, построил любительский приемник и стал
коротковолновиком-наблюдателем с позывным UA3-170-930, освоил азбуку
Морзе и тренировался в работе на ключе.
Сильное впечатление и некий душевный подъем вызвала у меня Московская
Олимпиада-80. Я дважды ходил в Лужники на состязания по легкой атлетике,
сделал ряд интересных фотографий.
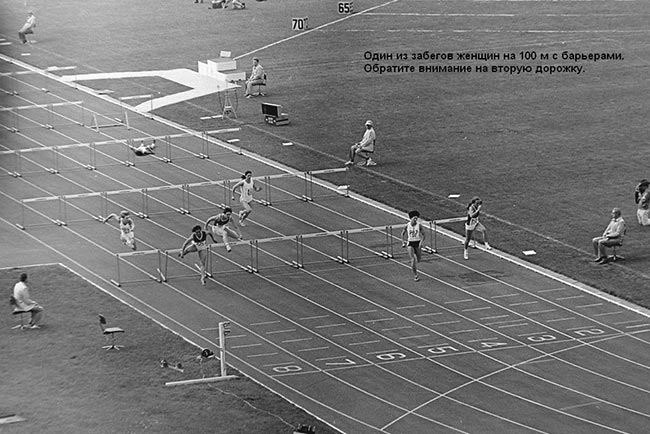
Итак, я был уже частично готов и имел смутное желание вступить в большой
спорт. Я был здоров, холост, не имел каких-либо житейских проблем, на
работе в нашей лаборатории был сокращенный рабочий день из-за
незначительной вредности по СВЧ-излучению, дорога на работу занимала не
более получаса пешком, поэтому была масса свободного времени. Чтобы
преодолеть инертность, требовался только какой-то небольшой особый
стимул.
 Вверх Вверх
|



